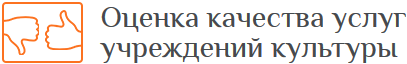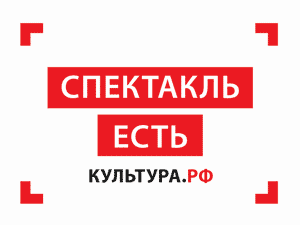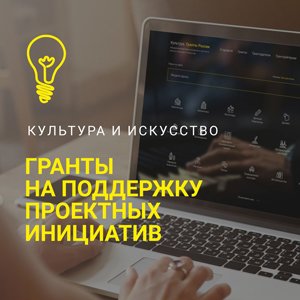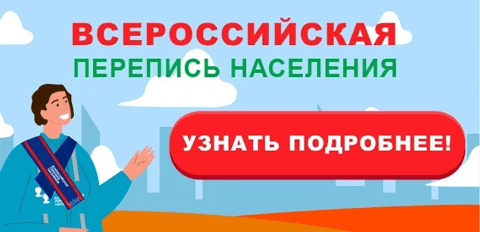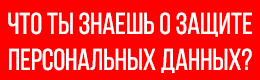Николай Железняк написал замечательную пьесу – «БОЛЬшой ПРОспект». Московский театр Aparte можно поздравить с успехом.
Не хотелось бы пересказывать сюжет. Дело это – не благодарное. Пересказывают сюжет обычно те критики, которым сказать особо нечего. Мне, наверное, есть чего. И не только потому, что юг России, Ростов-на-Дону, Таганрог, Красный Сулин – частичка меня. В героях пьесы Николая Железняка – частичка моей крови. Мой папа, донской казак, родился на хуторе Пролетарка Ростовской области. Все эти Эдики, Павлы, Ирины мои близкие знакомые, почти родственники, во всяком случае – по месту, духу, по детству. Я прекрасно помню, как мой дядя, младший папин брат, выходил из шахты – весь чёрный – с белозубой улыбкой. Аппетитно уписывал украинский борщ с перцем под первач и смачно крякал. Я помню эти большие, как египетские пирамиды, терриконы, весь этот пёстрый хоровод цыган (в моей тётке цыганская кровь, по сути, она наполовину цыганка), хохлов, суржик, весь этот дружный и весёлый казачий компот. И Ростов-папа мне знаком не понаслышке. В моём детстве там продавалось самое дешёвое и вкусное в мире мороженое.
Ваш покорный слуга – лицо, что называется, заинтересованное. Поэтому мне-то как раз и не хватает в спектакле всей этой кустурицы, всей этой цыганско-казацко-русской свистопляски. Мне, как кислорода, не хватает языка, на котором говорят герои Николая и меня категорически не устраивает музыка, в антураже которой герои Эдик и его компания выясняют свои отношения. И дело даже не в том, что камерная сцена уже игольного ушка и не может вместить в себя пространства вечного буйства природы и характеров. Недаром один из самых замечательных романов ХХ века – «Тихий дон» – отсюда.
Герои пьесы Николая Железняка «БОЛЬшой ПРОспект» только ищут свой голос, своё понимание того, откуда они пришли и куда идут: сиротские девяностые, бесшабашные, безбашенные, когда из обломков империи, как из кубика-рубика, народ попробовал сложить что-то новое, и что из этого всего получилось или не получилось.
Не только поэтому пьеса мне особо близка. Но и вот ещё что, несмотря на неизбежные промахи (Николай – драматург молодой, а режиссёр – Иван Косичкин – и того моложе, это – болезнь роста), хочется сказать.
Я не очень-то большой поклонник истмата, но и у меня горло саднит, когда мой любимый с детства цвет – красный – лишь подсветка в дискотечном безумии московского офисного планктона. У моего двоюродного брата в Пролетарке была красная рубаха. 90-е рванули на груди эту рубаху, как в драке после танцев.
Красные лоскуты моей страны, как запёкшаяся кровь. Где, чёрт возьми, это разодранное нуворишами в клочья красное знамя на обломках империи?
Я воспринимаю этот текст пьесы и его прочтение, ни больше, ни меньше, как манифест моего поколения. Поэтому сквозь слова и поступки героев скорее ощущаю, чем вижу моё тёмное, красное прошлое, этот разудалый, иной раз беспричинный и глупый казацкий разгул. Но всё это мне во сто крат милее, чем столичный беспросветный концептуализм. Глупость намного поэтичнее ума!
Но хотелось бы всё же увидеть это жаркое солнце, напоминающее подсолнух, пыльные бахчи с кавунами, чувяк, словом всё то, что в изобилии в «Казаках» у Толстого. Да и живого сазана в придачу, да чтобы он пускал солнечных зайчиков, словно зеркало. Хочу, чтобы после спектакля я ещё какое-то время гэкал, как тогда, в детстве, когда я приезжал в свой сырой, как подвал, Питер и целый месяц во мне ещё бурлил суржик...
Очень неплохо, что режиссёр не опускается до «отморозков», быдла, обыкновенных людей, которые свили себе уютное гнездо на подмостках столичных театров. Меня не устраивает вся эта мертвенная обыкновенность. Ведь недаром Ницше как-то сказал, что искусство нас спасает от правды жизни. Так вот мне не хватает искусства. Мне не хватает, кроме ощущения родства с Эдиком и его пёстрой компанией, драмы. Страдания героя насчёт того, как он угодил за решётку или откосил от армии не в счёт. Я говорю сейчас о другом. О БОЛЬшой драме. Драме, которую я остро ощутил тогда, когда спустя двадцать лет после того, как я побывал в Пролетарке, мой родной дядя, бывший шахтёр, а в настоящем огородник, приехал на похороны своего брата и моего отца. Мой дядя привёз с собою гуся, и гусь со стола свесил голову, как знак вопроса.
И это вот какой вопрос, куда ушёл весь этот казачий уклад и быт, что со всем этим стало? Неужели только – драма Эдика?
А ещё можно этот вопрос, обращённый скорее всего к самому себе, сформулировать так. Что лучше: правда жизни или приторная ложь?
Игорь МИХАЙЛОВ